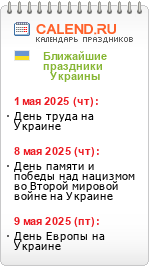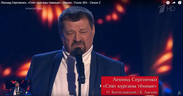Леонид Лиходеев и его город Сталино
14 апреля 2016 года исполнилось 95 лет со дня рождения нашего земляка писателя-фельетониста Леонида Лиходеева.

Дело было еще до войны 2014 года. Тогда донецкий писатель и журналист Вячеслав Верховский показал раритетную книгу стихов Леонида Лиходеева «Смоими глазами». Вячеслав обратил внимание на стихотворение из этого сборника «Город Сталино». Стихотворение автобиографическое и будет интересно многим. Мне лично очень нравится метафора «Строители улицами, как сеткой, поймали степь изящно и ловко».
Родился Леонид Израилевич Лидес (Лиходеев – литературный псевдоним) в Юзовке 14 апреля 1921 года. Жил на 9-й линии (ул.Челюскинцев). Учился в школе №1, тогда находившейся на месте управления Донецкой железной дороги. Среди одноклассников поэт Юрий Левитанский (автор слов песни «Монолог у новогодней елки» из кинофильма «Москва слезам не верит»). Вместе они занимались в литературном кружке Сталинского дворца пионеров (ул.Артема,60). Поступил в Одесский университет, летом 1941 года добровольцем ушел на фронт.
В 1944 году демобилизован по болезни. Работал в Краснодаре, переехал в Москву. Закончил Литературный институт имени Горького. Начал печатать очерки. Потом были рассказы, повести. В последние годы работал в «Московских новостях».
В Музей еврейского наследия Донбасса 7-8 лет назад родные писателя передали книги и личные вещи Леонида Израилевича. Журналист Верховский освещавший это событие писал:
«В 69-м выходит книга для детей «Звезды с неба». Книга веселая. Он обладал уникальным даром писать смешно. И этим даром щедро делился с многочисленными учениками.
Виктор Шендерович … вспоминал об одном творческом семинаре: «Когда-то я занимался у великого стилиста-фельетониста Леонида Лиходеева. Мы вслух читали свои работы, а потом он сказал: «Виктор, ну-ка дайте сюда ваш текст. Вот смотрите: на эту фразу смеялись, а тут нет, а тут хохотали … Знаете, почему? Смеялись там, где правда».
Умер Лиходеев в Москве 6 ноября 1994 года.
И все тот же Вячеслав Верховский дал возможность познакомиться с автобиографической повестью Лиходеева «Жили-были дед да баба», опубликованной в толстом московском литературном журнале в начале 1990-х. В этой прозе много личного, но есть места, дающие дополнительную, уникальную информацию о нашем городе. Сейчас, по прошествию лет, этот текст уже есть в интернете. Тогда же, читая журнальную ксерокопию, я старался не пропустить ничего из описания обыденной жизни родного города.
Слово мастеру.
«Улицы в нашем городке назывались линии. Они были немощеные. Домишки на них поставлены по линеечке, наспех, поскольку городок рос при огромном заводе и завод подминал под свои интересы окружающее пространство.
Первые мои впечатления о природе были связаны с серым золотистым песчаником, который заваливал все вокруг, но сквозь который упрямо пробивалась мелкая травка. Деревья на линиях попадались редко: здесь всегда была степь. Поэтому дворики за домишками выглядели маленькими садиками, как бы непричемными к местности. Там, в двориках, росли небольшие фруктовые деревца, посаженные и выращенные стараниями домохозяев. Но охотнее всего почему-то росла дикая маслина.
Мы проживали в небольшом саманном домике о четырех окошках, выходящих на линию. В домике этом я родился или, по крайней мере, жил отродясь. Принадлежал он Василию Васильевичу Фоменке, рабочему-аристократу, механику, смотрителю водоочистительного узла огромного завода, к которому прилепился наш городок-поселок. Сам Фоменко с семейством проживал во флигеле внизу двора, а домик сдавали нам внаем.
Фоменку я помню. Это был седоусый старик, должно быть, небольшого роста – тогда я был слишком мал сам, чтобы верно определить чужой рост. Но Василий Васильевич не казался мне и тогда очень большим. Надо думать, я тянулся к нему детской дружбой. Во всяком случае, первое механическое устройство, с которым я познакомился, было устройство водопроводного крана. Василий Васильевич возился в своей небольшой мастерской и весьма педагогично приспосабливал меня в помощники. Я думаю, мое влечение к механике и некоторая способность справляться с отверткой и гаечным ключом начались с уроков старика Фоменки.
Василий Васильевич курил трубку, а в трубке – махорку. Седые усы его желтели махорочным следом. Меня он называл ерусалимский казачок. Я был голубоглаз и белобрыс, что составляло некую несуразицу, ибо сыны Израиля (а отца моего, действительно, звали Израиль) обязаны быть чернявы и кудрявы. Впрочем, и отец мой был голубоглаз и белобрыс.
От Фоменки хорошо пахло металлической стружкой и машинным маслом. Это был чистый запах какого-то важного дела, серьезного занятия, всамделишнего времяпрепровождения.
Отец мой не был привержен к механике. Иногда он заходил к нам в мастерскую. Вероятно, они дружили или, во всяком случае, были расположены друг к другу. Иногда они сиживали за столиком под дикой маслиной без пиджаков и при небольшой бутылочке. Иногда приходили гости и за тем же столиком устраивался преферанс. Одного гостя я помню. У него была зеленая фуражка с блестящими молоточками крест-накрест. И еще я помню электрическую лампочку, подвешенную к дикой маслине, поскольку преферанс затягивался за полночь, когда мне уже давно полагалось спать.
Дед мой жил на той же линии, что и мы, но – в трех кварталах от нас. Дорога казалась мне по малым моим размерам неблизкой, но я любил ходить к деду. Три квартала это – домишек двадцать по немощеной улице, на которой все собаки были мне знакомы. В первый раз, когда я самостоятельно двинулся в этот путь, мама строго наказала: только никуда не сворачивай! Я не сворачивал. А мама шла за мною в отдалении, чтобы я не видел, как она идет, и чтобы быть спокойной за меня.
В дедовом дворе жили несколько семей, каждая в своем домике, в своей пристройке, каждая располагала своим сарайчиком, где лежала разная рухлядь и запас угля на зиму. Однако были на дедовом дворе и общие владения. Это были погреб и летняя кухня. Погреб был большой, каждая семья имела в нем свою часть. Летняя кухня представляла собою длинную печь-плиту конфорок на десять. Плита находилась под навесом и грелась каменным углем. Хозяйки приносили с базара снедь – синенькие, красненькие, перец, капусту, буряк – кошелки были неохватны и неподъемны. Они приносили с базара живых кур, висящих вверх ногами, обернутое капустными листьями масло и темно-красное тяжелое мясо с непременной желтоватой мозговой костью. И еще с базара приносили рыбу. Огромные пучеглазые рыбины шевелили безмолвными ртами, хватая последний воздух.
С утра на летней кухне гремели ножи, секачи, а у Островских была новая мясорубка, из которой, если покрутить ручку, вылезал котлетный фарш.
С утра двор переговаривался, перекрикивался новостями.
– Мадам Фукс! Что вы будете сегодня варить?
– Боршт.
Интеллигентная инженерша мадам Бродская всегда почему-то варила бульон с лапшой. Лапшу она раскатывала на своем небольшом столике, и лапша ее была тонкой, как папиросная бумага.
Печь была раскалена с утра до вечера, на ней стояли сковородки, на которых доспевала, покрываясь темным коричневым золотом, рыба, шкворчали котлеты, а в кастрюлях томились борщи и супы. В печи, сбоку, имелись еще три духовки, в которых запекалась все та же беспощадная еда.
Днем, в самое пекло, приходили бродячие жестянщики, возвещая мир о своем пришествии:
– Паять-лудить касрули! Паять-лудить касрули!
Новых кастрюль я не помню. Все они были паяные и латаные.
Я боялся еды. В двадцать седьмом году ее не только волокли с базара. Ее разносили, развозили по дворам, торговались тут же из-за копеек и пятачков.
А ближе к осени двор загромождался порожними бочками, кадушками, кадками. Бочки эти заполнялись водою и в ту воду кидали раскаленные добела кирпичи. Вода всклокатывала, гудела, исходила густым паром. Бочки грохотали, паруя, и были похожи на вулканы. Бочки быстро становились горячими на ощупь. Я спросил у бабки:
– Для чего это?
Она ответила:
– Чтобы было чисто.
Так готовили полуду под соленья – под капусту, под огурцы, под красненькие, под синенькие, под кавуны. Укропный и чесночный дух висел над двором. Лавровым листом и перцем насыщен был этот дух.
А в углу летней кухни складывали остывшие, сделавшие свое дело кирпичи, треснувшие пополам или уцелевшие. Складывали до следующей осени.
Дед мой ходил зимою в синей нагольной романовской поддевке. Были когда-то такие поддевки – сверху по фигуре, в талию, а от пояса – складчатая юбка. Воротника в поддевке не было, не полагался. А полагался к ней огромный козловый тулуп с неохватным шалевым воротником. Тулуп такой у деда был, но дед не надевал его по причине не сильной зимы. Тулуп находился в сундуке, пересыпанный от моли махоркой. Дед занимался извозом.
Во дворе, где жил дед, стояли брички, разворы, площадки и небольшая бедарочка, в которую я любил залезть и сидеть там, думая уже не помню о чем. О чем может думать тихий шестилетний мальчик, который ищет уединения в старой бедарке, похожей на большой черный фанерный ковш, к которому приделаны два огромных окованных колеса.
В конюшне, в самом низу двора переминались лошади. Оттуда шел луговой запах сухого сена и сытого овса.
Лошадей было пять. Один конь, по имени Буланый, стоял отдельно за изгородкой. Конь был стар, его никогда не запрягали. Это был конь-аристократ. Иногда он тоненько ржал, и в ржании его слышались молодцеватые трубы. А ржать было о чем. В юности своей, давным-давно, еще, кажется, в двенадцатом году, Буланый принес деду моему приз на бегах. Потом коня украли барышники. Конь отбился, отлягался, перекусал конокрадов и прискакал домой.
Шел двадцать седьмой год. Это был богатый сытый год. Это была вершина НЭПа. Год начался с того, что родилась моя сестренка.
Я уже был большой – было мне шесть лет и сестренка отвлекала от меня внимание и надзор семейства.
Мне почету-то нравилось находиться при взрослых, одетых в телогрейки и ватники, в поддевки, мне нравилось находиться при взрослых, от которых пахло махоркой, овчиной и пряным спиртным следом. Взрослые эти принимали меня, не отличая, как будто я был такой же, как они, только поменьше ростом. Это мне очень нравилось. Никто меня не хвалил за сделанное и никто не восхищался моей сообразительностью в столь молодом моем возрасте. Это было ново и – прекрасно. Меня посылали за делом: принести, унести, поддержать. Должно быть мне нравилось находиться при таких взрослых еще и потому, что были они похожи на моего деда.
– Ты чей? – спрашивал меня, кто не знал чей я. За меня отвечали:
– Это внук Михайлы Абрамыча. Звать – Ленька.
– А-а-а… Ну ладно, садись на подводу, поехали… Боком садись… Возьми вожжи, пока я цигарку скручу…
Еще совсем недавно я мог хвастать тем, что держал в руках самый настоящий браунинг, а теперь мне в голову не приходило хвалиться, что кони меня слушают и поворачивают туда, куда я дерну вожжей. Я уже не говорил «лошади», я говорил – «кони», как говорили эти люди. Да и если подумать – кони и лошади – это все-таки не одно и то же.
Люди эти возили ящики, бревна, тюки и дружили с моим дедом. А ранней весной они возили колотый лед – закладывать на лето в погреба.
Лед возили со ставков, которых в нашем городе было три. Самый лучший лед был на третьем, дальнем ставке, он был чист и прозрачен. Его откалывали ломами, вытаскивали на берег, разбивали и грузили на брички. Мне задавали дело на берегу, чтобы я не лез на лед, чтобы ненароком не сорвался в воду».
Леонид Лиходеев, повесть «Жили-были дед да баба»