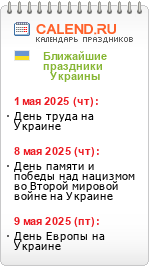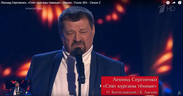Еще раз о войне: оккупация и победа
Борис Алексеевич мне сразу понравился: общаться с ним было интересно и легко. «Сколько же ему лет?», - не давало покоя любопытство. Он был абсолютно седой и, судя по датам, которые всплывали в разговоре, давно уже вышел на пенсию. Но старческого и тяжелого в нем не чувствовалось – ум оставался ясным, а юмор – живым. Может быть дело в том, что всю жизнь он занимался (в том числе и на момент разговора) научной деятельностью?
Оказалось, что ему уже исполнилось 79. «Да, я и войну застал», - сказал он и в следующий раз принес распечатанные воспоминания о войне, которые готовил для какого-то спецпроекта на «Немецкой волне», но опоздал со сроками. Борис Алексеевич поскромничал и попросил не указывать его фамилию, оставил воспоминания и больше мы с ним не виделись.
Воспоминания мне показались очень интересными, поэтому привожу их полностью, сохраняя стиль автора.
1. Начало оккупации
«В начале войны распространялись слухи, часто передовые немецкие части, занимая с боями города и села, грабят население, сжигают жилые дома, убивают взрослых и детей. Все были в страхе. Наша семья в то время проживала в заводском поселке Терновского сахарного завода в Сумской области.
С каждым днем фронт приближался. Когда на горизонте стали видны разрывы от снарядов, я с мамой и младшей сестрой (мне в то время было восемь, сестре - четыре года) спрятались в погребе во дворе, который представлял собой яму, накрытую бревнами и слоем земли.
Все ближе и громче были слышны автоматные очереди и разрывы мин. Мы научились на слух различать звуки разрывов снарядов и мин – в отличие от минометных мин, звук снарядов за доли секунды перед взрывом переходит из свистящего в рокочущий. Вдруг раздался взрыв такой силы, что сверху нам на головы посыпались комья земли, погреб наполнился пылью и редким дымом. Мы с сестрой от испуга заплакали, мама что-то мне говорила, но я от сильного звона в ушах ее не слышал. Как потом выяснилось, минометная мина упала в метре от дверцы в погреб.
Дышать становилось все труднее, поэтому, когда разрывы мин и пулеметная стрельба стали стихать, мама приподняла дверцу люка, и, убедившись, что поблизости никого нет, быстро провела нас в дом.
Закрыв входные двери изнутри на крючок, мы тихо сидели и со страхом прислушивались – не подходит ли кто к дому. Вдруг входная дверь с шумом распахнулась – в дом вошли три немецких солдата в касках, с автоматами наперевес. За спинами у них были ранцы и продолговатые гофрированные цилиндрические банки. Как потом я узнал, это были противогазы. На поясах у немцев были саперные лопатки, кинжалы и гранаты. На нагрудных карманах – электрические фонарики.
Быстро осмотрев квартиру, солдаты, что-то громко говоря на непонятном нам немецком языке, сняли ранцы и сели за стол. Они достали баклажки, галеты и показали маме жестами, чтобы она подала чайник, стоявший на холодной плите. Один солдат что-то спрашивал, но мама не понимала, что он хочет. Тогда он свинтил с красной плоской баночки крышку и показал на остаток масла в ней. У нас масла не было, поэтому мама поставила на стол банку со смальцем. Немецкий солдат при помощи жестов спросил, что это за жир. Мама ответила: «Хрю-хрю». Немецкие солдаты наполнили масленки смальцем, а баклажки – водой, быстро перекусили и ушли. Когда они уходили, я обратил внимание, что у них на каблуках кожаных сапог были подковки, а на подошве – шипы, издающие при ходьбе цокающий металлический звук. Наши же солдаты носили в то время кирзовые ботинки с обмотками.
С уходом немецких солдат, мы, прежде, чем лечь спать, еще долго тихо сидели в полной темноте, приходя в себя от страха.
2. В период оккупации
Наша семья, переехавшая в самом начале войны из города Сумы, с началом войны осталась практически без средств к существованию. Намного легче было постоянным жителям заводского поселка и села – они имели огороды, держали скот и птицу. Мама ходила по селам и меняла вещи и одежду на продукты питания. К концу осени вещей для обмена уже практически не осталось. Я часами бродил по полям в поисках остатков неубранного урожая. Приносил домой немного сахарной свеклы или картошки. Мама готовила без муки и жира, так называемые «деруны» и компот из сахарной свеклы. Другой пищи у нас не было.
Плохо было зимой 1941-1942 года. Такой холодной и снежной зимы я не припомню за все последующие годы жизни. Сахарную свеклу и картошку приходилось буквально вырубывать из промерзшей земли. Ели уже деруны приготовленные из тертой неочищенной от кожуры мерзлой картошки. По вкусу они чем-то напоминали мыло.
У нас не было топлива. Я каждый день ходил в балку и маленьким топориком рубил хворост, а на шлакоотвале сахарного завода выбирал кусочки несгоревшего угля.
Совсем плохо стало, когда начались снежные заносы. Мы оказались не только без пищи, но и без топлива. Мама по натуре была энергичным и находчивым человеком – она из папиного старого зимнего пальто пошила «бурки» - женскую зимнюю обувь, похожую на валенки. В селе она обменяла «бурки» на ведро картошки! После долгих поисков я, в свою очередь, решил проблему с дровами – в пустом, без окон и дверей, совхозном сарае, на чердаке распиливал на куски деревянные горизонтальные перемычки. Они скрепляли стропила крыши. В мешке я уносил их домой. Так продолжалось до тех пор, пока я не увидел, что часть крыши сарая «поехала» - пилить оставшиеся перемычки было опасно.
Где-то в конце 1942 года к нам пришли полицаи и сказали, что в нашей квартире будут временно проживать трое немецких военных из санитарной части. Мы были напуганы.
Полицаи нам объяснили, что нас не будут выселять, определили места в квартире, где военные будут спать, и ушли. Нам завезли дрова и уголь, что вызвало зависть соседей.
Двух немецких солдат поселили на кухне, а унтер-офицера – в комнате, на моей кровати. Немцы вели себя деликатно, без спроса ничего не брали, между собой разговаривали негромко. Унтер-офицер приходил поздно вечером, здоровался с нами, садился на кровать, брал сигарету из ящичка, и уходил курить на веранду. Пока он курил, мы выключали свет и ложились спать. Утро унтер-офицер вставал в одно и то же время и уходил.
Один из солдат плохо говорил на русском языке. Он поручал маме покупать в селе на оккупационные марки, которые у него были, картошку и сливочное масло. Утром солдаты на санитарной машине уезжали на целый день. По возвращению сразу же приступали к приготовлению ужина – жарили картошку на сливочном масле.
В то время в мои домашние обязанности входило – топить печку, выносить грязную и приносить чистую воду, греть в котле и кипятить в чайнике воду, мыть посуду и полы. Мама продолжала шить «бурки» из старой одежды и менять их на продукты. Как-то мама сказала, что в селе у нее спрашивали, нет ли у нее металлических шпилек для волос. Она показала мне, как они должны выглядеть.
Я из алюминиевой проволоки делал по образцу шпильки, - затачивал концы и шлифовал золой до блеска. Мама меняла у селян самодельные шпильки для волос на горько-сладкую патоку (отходы химической очистки сахарного сиропа на заводе, используемый селянами для корма скота). Правда, каждый раз после питья чая с патокой появлялась сильнейшая изжога, и для ее устранения я ел мел.
Один раз солдат слабо говорящий на русском языке, будучи в хорошем настроении, стал объяснять мне, что, мол, немцы умеют хорошо работать, но у них мало земли, русские же имеют много хорошей земли, но не умеют работать. Он сказал, что Гитлер пообещал, что после окончания войны, все солдаты получат в Украине наделы земли. Когда он получит землю, построит небольшую фабрику. Сказал, что я хорошо помогаю матери по дому и когда подрасту, он возьмет меня к себе на работу, научит, как надо работать и я буду хорошо жить. Я ему ответил, что я и так хорошо жил до войны.
Солдат повел меня к окну и, указав рукой на стоящий за дорогой деревянный общественный туалет (в котором в жаркую летнюю погоду был пренеприятнейший запах, а зимой – очень холодно) сказал, что, судя по туалету и дорогам, жили мы плохо.
Я тогда не понимал, причем тут туалеты и дороги. Дома и в школе были такие же деревянные туалеты. Других туалетов я не видел. И искренне считал, что жили мы до войны хорошо – я мог беззаботно с утра до вечера бродить с другом по посадкам и балкам, лазал по деревьям, стрелял из рогатки по птицам. Дома меня ничего не заставляли делать, а после ужина мама всегда мне и сестре готовила на десерт любимый гоголь-моголь. Я любил босым бродить по лужам поселочных дорог. Что мне очень не хотелось делать, так это, когда я приходил летом с улицы домой, тщательно мыть ноги.
В ту суровую зиму я ходил в легком осеннем пальтишке. У меня был не проходящий кашель, постоянно болело горло. Немецкий солдат, видя мое состояние, дал маме лекарство – красный стрептоцид. Перед отъездом другой солдат достал из санитарной машины коричневое с белыми поперечными полосами байковое одеяло и сверток ваты и, отдавая маме, сказал, чтобы она пошила мне зимнее пальто.
Каждый вечер один из солдат, перед тем, как лечь в постель, в моем присутствии перезарядив пистолет, произносил громко: «Капут партизан!», а затем клал его под подушку.
В свободное время солдаты играли на губных гармошках фокстроты и марши. Но в начале января 1943 года немецкие солдаты перестали играть на губных гармошках, ходили хмурыми. От соседей мама узнала радостную весть – немцы разгромлены под Сталинградом.
3. После оккупации
У нас не было ни бумаги, ни спичек. Нечем было растопить дрова в печке. Я придумал способ растопки дров печки с помощью самодельных спичек и тола (тротила). Добывал я тол вместе с моим товарищем. На складе немецких трофейных боеприпасов мы привязывали к стабилизатору большой минометной мины веревку и волокли мину подальше в лесопосадку. Мины на складе были без взрывателей, поэтому мы спокойно с помощью молотка и столярного долота, выдавливали из корпусов тол. По внешнему виду он практически не отличался от желтой кристаллической серы. В гранатах тол был розового цвета.
Остаток тола, недоступный для долота, мы выплавляли из корпусов мин на костре. Дома для растопки дров возле печки стояла большая железная банка наполненная толом. Бумаги у нас не было. Мама считала, что для растопки дров я использую кристаллическую серу, применявшуюся на сахарном заводе в технологии очистки сахарного сиропа.
Технология растопки дров в печке толом заключалась в следующем – с помощью кресала (обломок плоского стального напильника) из куска кремния высекались искры, которые поджигали фитиль. В то время такие «зажигалки» были практически у всех курильщиков. К тлеющему фитилю подносилась самодельная спичка – тоненькая длинная деревянная палочка с серной головкой на конце. От слабого еле заметного пламени серной головки, издававшей резкий и неприятный запах, загоралась палочка. Ее пламенем я поджигал тол в печке с дровами. Тол горел желтым коптящий пламенем со специфическим запахом. От пламени тротила в печке загорались даже сырые поленья.
Для отопления квартиры в зимний период 1944-1945 года у нас не было ни дров, ни угля. Мама неоднократно безрезультатно обращалась к местной власти с просьбой завезти и нам уголь. Отчаявшись, она написала жалобу командиру воинской части, где служил отец. И только после того, как пришло от командира части требование к местной власти обеспечить семью фронтовика топливом и доложить об исполнении, нам завезли дрова и уголь.
Для меня это было большое облегчение, отпала необходимость в холод ежедневно ходить в балку рубить хворост и выбирать на заводском шлакоотвале несгоревшие куски угля. Правда, в начале лета у меня появилась другая обязанность – купили козу и я ее доил, так как мама с утра до вечера сидела за ручной швейной машинкой и перелицовывала поношенную одежду селян, чтобы заработать на продукты питания.
Коза непрерывно жевала, поедала в день травы, которую я косил на лугу маленькой косой, не меньше, чем соседская корова, хотя молока давала намного меньше.
По соседству с нами жил с мамой и маленькой сестрой такой же по возрасту мальчик, как и я. Его отец, как и мой, был на фронте. Однако жили они намного лучше. В то время как я с утра до вечера был занят домашней работой, соседский мальчик целыми днями гулял на улице. Был он хорошо одет, носил немецкие наручные часы. Его мама часто получала посылки с одеждой и вещами. Я как-то спросил у мамы, почему папа мальчика постоянно присылает посылки, а наш – нет. Мама объяснила, что у папы мальчика есть офицерский аттестат, а у нашего папы, старшего сержанта, его – нет.
Мне было непонятно и обидно – чем мой папа хуже, ведь он тоже как и папа мальчика на фронте.
4. День победы
9 мая 1945 года я был дома у Анатолия Мокренко (будущий народный артист СССР, директор национального оперного театра в городе Киев). С ним я дружил и учился в одном классе. Неожиданно мы услышали на улице беспорядочную автоматную стрельбу. Выскочив из дома на улицу, увидели в парке у могил советских воинов солдат. Нам сказали, что закончилась война. Первое, о чем я радостно подумал – папа возвратится домой. Я бежал по улице домой, чтобы сообщить радостную весть маме и встречным прохожим кричал: «Война закончилась!»
Впервые за долгие годы войны я почувствовал такую легкость, как будто с плеч свалился тяжелый груз. Это был самый радостный день в моей жизни. Вечером смотрели в заводском клубе любимый фильм – «В шесть часов вечера после войны». Этот фильм я смотрел здесь не раз.
И когда в конце фильма слышал, как отъезжающий на фронт боевой офицер и провожающая его девушка кричали друг другу «Встретимся в шесть часов вечера после войны» я с тоской думал о том далеком дне, когда закончится война. Но в это раз, когда услышал те же слова, меня охватила неописуемое чувство радости. Моя самая желанная мечта наконец с б ы л а с ь!»