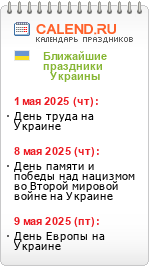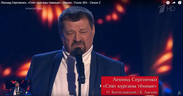Цветы у взорванного дома

Никишино — село к северу от Шахтерска, Донецкой области, находилось как раз на пути в Дебальцево и подвергалось постоянным обстрелам с украинских позиций, особенно во время горячих столкновений зимы 2014–2015 годов. Оно полностью разрушено, но в нем продолжают жить и выживать люди. И если городские кварталы Дебальцево интенсивно восстанавливаются, то частный сектор небольших сел получает только гуманитарную и добровольную помощь бойцов, воевавших здесь. Российские медиа практически забыли про гуманитарную беду Донбасса, найдя более свежие темы. Но в Донбассе все еще гибнут люди, разрушены дома, страдают дети. Без внимания России и российского общественного мнения граждане ДНР и ЛНР могут остаться в чудовищной нищете и разочаровании, а местная бюрократия, еще крайне слабая, но местами очень самодовольная, наверняка все провалит.
Возле рва для фундамента женщина ковыряет ногой железяку, застрявшую в земле, изредка поднимая грубое от красного загара лицо и поглядывая на мужчин в военных спецовках, разбрасывающих лопатами песок. Неподалеку, через хилый забор — развалившийся соседский домик, береза, хлам, вынесенный из жилья. Низко над Никишино стоят серые облака.
Женщина поднимает голову, чтобы проводить взглядом длинную балку, лежащую на плечах рабочих. Ветер беспокоит седую челку. Женщина приходит сюда каждый день — посмотреть, как идет стройка нового дома на месте старого. Старому в конце четырнадцатого года выбило стекла, обрушило стену, а прямое попадание в подвал завершило начатое. Дом разнесло по двору. Женщина в это время пряталась с внуками в подвале у двоюродной сестры. Коридор на выход из Никишино им дали раньше, чем снаряд попал в дом сестры.
— Уже ничего я не люблю, — бормочет она, долбя железяку, — ни старого, ни нового. Дом был красивый, обыкновенный, десять на десять, средний для колхозника. Зал — любимый, светлый, большой, три окна, много цветов. Все хорошо было, и на праздники было хорошо. Вон береза моя, люблю я ее. Лучше б не помогхали, — мягко говорит она. — Лучше б не помогхали.
Лопаты перестают разрезать песок. Изо рва показывается круглая рыжая голова строителя.
— Лучше, чтоб помогхали, — отзывается твердый мужской голос.
— Лучше, чтоб не помогхали, — настаивает женщина.
— Перекур! Курить!
Лопаты ложатся на песок. Мужчины закуривают. Это военные из батальона «Восток».
— Мы же от души. Добровольно. За идею. Гляньте — кругом разгромленные хаты. Гляньте!
Крыша присевшего соседского домика, лишившись шифера, показывает небо в клетку. С другой стороны темным квадратом глядит чердачное окно дома, разбитого под снос.
— Мы — земляки. А у вас горе.
— Недаром говорят: лучше давать, чем просить, — сильно наклоняя голову, произносит женщина. — Вы с утра до вечера работаете каждый день, — договаривает она, и становится ясно, почему она плачет. Слезы отвесно падают в землю. — Украина мне пенсию не платит, и тут не получаю. Я не смогу вас отблагходарить.
— А нам не надо «спасибо», — один из строителей закуривает.
— Зато какую мы вам тут кухоньку отгрохаем, — говорит старший. — Хотя осадок, конечно, останется.
— Допустим, я пятьдесят восемь лет прожила, а не привыкла, так сказать, к такому… Я привыкла все сама зарабатывать, приобретать. А получается, вы работаете, а я ничего в ваш труд не вложила.
— Да вы душу вложили! Есть такой фактор — человечность! — самый молодой отшвыривает окурок, отворачивается.
— Ленточку в новом доме перережете, да и все, — смеется старший. — Все? Перекурили?! За работу!
Возобновляется звук лопат, активно внедряющихся в песок.

Приют в разрушенном селе находят собаки. Целая банда. Люди их не прогоняют
* * *
Мимо продуктового киоска дребезжит мотоцикл, везущий в деревянной люльке двух мальчиков. У киоска стоит обгоревшее дерево. Тихие развалины Никишино молчаливо растут по обеим сторонам улицы. Из окон смотрят облака. Решето ворот ведет во дворы, где груды, остовы вместо домов. Перебитые надвое, к земле клонятся столбы.
— Моего брата первого убило, — говорит Лола, продавщица ларька, — вот тогда все из села потикали, а до этого не хотели уезжать. Он как раз со скотиной на улице управлялся, у него корова была, быки… Вроде как тихо было, и вот на тебе — в дом снаряд попал. Меньший брат повез его в Дебальцево под обстрелом, думали — выживет. А приехали в больницу, врач говорит: «С таким ранением в голову не живут». И он в больнице скончался, не могли даже похоронить неделю его. Обстрелы ж были. У меня племянники, получается, одни остались. Мать их, получается, в Россию уехала, — переходит она на шепот, — там замуж вышла. Племянники под нашим этим остались, получается.
Там украинцы с четырнадцатого года стояли.
Волосы Лолы, покрашенные дешевой краской, подколоты у висков невидимками с камушками.
— Мы ларек открыли. Существуем с него. Ну, хоть трошки, чтобы с голоду не умереть. Теперь сны плохие вижу — война, страшно, танки ездиют, стреляют там, люди кричат, сердце выскакивает. Боюсь, как бы еще не началось, как бы еще кого не потерять. Только вы ж племянникам моим не говорите, — шепчет Лола, — что я рассказала, как мать их бросила.
В палисаднике у ларька краснеет россыпь тюльпанов. Весна четко обозначила деревья, погибшие во время обстрелов. Крепко сидящими в земле черными стволами и пустыми ветками они траурно выделяются среди зеленеющих тополей и берез, яблонь и вишен, усыпанных цветом.
Пожилая сельчанка наваливается грудью на гипсовую ограду палисадника. Там — сочные пушистые кусты, молодые побеги. Трелят птицы.
— А разве ж без цветов — это жизнь? — спрашивает она. — Вот за тюльпанами и нарциссами сейчас петушки пойдут, за ними — лилии зацветут, лимонные, абрикосовые, бордовые. А за ними — пионы. За пионами — розы. А роза же как? Одна опала, другая расцветает. Осенью пойдут астры цвести. А за астрой — хризантемы. Приедут в село люди, посмотрят на цветы, и им будет приятно. Не бывает жизни без цветов. Женщинам положено цветы любить. Поначалу нам тут было в развалинах страшно. Дома наши разбиты, и жизнь наша разбита. А нарциссы первыми зацвели, и на душе легче. А мы-то до войны старались, да-а, одна другой лучше садить. Одна перед другой в красоте соревновались.

Село было в самом центре боев. Улица Мира, 23. Ворота, пробитые осколками и пулями
Через дорогу у сломанного забора, у груды камней, оставшейся на месте дома, гордо поднимают головки нарциссы и тюльпаны. По носу сельчанки бежит густая слеза, останавливается на середине и дальше не двигается.
— Родненькая земля моя, родненькая, — причитает она. — Родненькая наша, любименькая. Мы на тебе выросли. Лилия — моя! Нарциссы — мои, и тюльпаны — тоже мои! И царская корона посередочке! — она давит опухшим пальцем слезу на носу. — На душе-то от цветов полегше. А то вы думаете, не тяжело? Поразбить дома поразбивали, а строить заново не помогают. А пенсия у нас какая? Две тысячи рублей. А цены какие?
Сельская дорога ведет к школе — длинному кирпичному зданию. Из третьего этажа в небо торчит арматура. В дыры сверху заползают облака. От школы тянется пустая улица, где высокая трава прикрыла груды щебня, а огрызки стен лишь кое-где проглядывают из зелени кустов и ползучего сорняка осторожно заступающей природы. Этой весной она совершает вторую атаку на некогда обжитые дома.
Дородная женщина вонзает в землю тяпку. На ней черный халат в крупную розу, поверх него жилетка, на голове мышиного цвета платок. Мелькают тяжелые, налитые трудом локти. На взрыхленных грядках сидят кустики клубники. Стволы деревьев туго перебинтованы белыми тряпками, словно рука или нога раненого человека.
— Да, сыночек? — Люба вынимает из кармана зазвонивший телефон. — А шо, можно подумать, твоя Алена когда-нибудь трубку берет, когда я ей звоню! Просто тебя долго не было, и я ей звонила. А де ты, сына, был? А-а-а, вон оно что… Ясно. А я-то думала, если Алена трубку возьмет, значит, ливень к вечеру будет. А нам дождик бы не помешал! Цыган! Кнопа! — прикрикивает она на пару мелких резвящихся у клубники дворняг. Низкий Цыган глядит на нее из-под черной челки по-человечески понимающими глазами. — А я, сынок, сегодня ходила к тем ребятам из батальона «Восток», — продолжает в трубку Люба, — которые строят по центру дома. Разговаривала с ними. Ну, шо-шо? Та не знаю я, сына, шо делать. Шо делать, а и шо думать. Они говорят: «Эти дома построим сначала, потом вам строить начнем». А я спрашиваю: «А вы точно еще дома будете строить?» — «Да, будем». Но видишь, сына, их же не приветствуют тут. Понимаешь? Ага. Говорю, власть не приветствует их тут. Не знаю, сына, почему. Сами не строят и другим не дают, — шумно вздыхает в трубку. — А я говорю: «Пусть хоть Барак Обама приедет, мне дом построит!»
На земле видны следы заваленных свежей землей воронок. Над остатками забора возвышается черный орех, карябающий пустыми ветками небо, а столб, стоящий возле него, смотрится живее, чем дерево.
— Это шелковица, мы варенье варили с нее, — говорит Люба, тяпая возле тонкого пня, выпустившего высокий побег. — Обгорела, но пошла с корня расти. Семнадцать бомб на наш огород упало. Но скоро клубничку соберем, компотик закроем. Только все разбили, некрасиво нам сделали, а знали бы вы, милые мои, как красиво у нас было в Никишино! А теперь что? Сталинград!

Волонтеры из «Востока» помогают восстанавливать жилье. Власти почему-то эту инициативу не оценили
Она выпрямляет затекшую спину. На секунды воцаряется спокойствие, наполненное весенними звуками, которое, если закрыть глаза, звучит как идиллия.
— Вы знаете, что я почувствовала, когда нас отсюда увозили? — Люба, воткнув тяпку в землю, опирается крепкой ладонью на черенок. — Я на все это посмотрела, — она обводит голубыми глазами огород, — а оно в ответ на меня глядит. И я прощения попросила, я ведь как предаю это все. Вот предаю я свой двор, свои деревья. Мне кажется, они смотрели на меня и спрашивали: «Куда ты?» Оно ж мое, а я все равно уезжаю. Все равно предаю. А как я могху? Я не могху. Понимаете? Оно же все моими руками посоженое. А то не живое, что ли? В прошлом году оно, бедненькое, не зацвело, испугалось. А в этом посмотрите, сколько цвета! Благодарит меня за то, что я вернулась. В «Москвиче» месяц с мужем жила. Оно благодарит меня за то, что вернулась и раненое спасала — бинтовала, обвязывала.
Люба заходит во двор. Дырявые ведра, ржавые батареи, тазы, доски, обломки шифера, автомобильные покрышки, кастрюли, бельевые веревки, облезлый школьный стул и фляжки заполняют каждый метр двора, своим беспорядком создавая шум в голове смотрящего. На умершем орехе растет жирный гриб. Много чего здесь есть, но нет главного — дома. Звенит цепь, на которой вокруг черного дерева бродит широколобая дворняга.
— Умка! Тихо! Цыган! Кнопа! Эй, банда маленькая, де вы есть?! — зовет Люба. — Это не наши собачки. Приблудились. Мы себе вот этот угольник оборудовали, — Люба показывает на узкое строение. — Одеваемся в секонд-хенде, — она оттягивает на животе жилетку, которая, кажется, прошла уже через десятые руки. — Ринат дает гуманитарку тем, кто старше шестидесяти пяти. Я ее не получаю. Только российскую — нас вызывают в Шахтерск и там выдают. Ну ни одно село так не разбили, как наше. А вспомните, как в новостях все время говорили: «Никишино — второй Сталинград!» — Люба подделывает голос под строгого диктора. — «Никишино — второй Сталинград». Милые мои, так почему вы сейчас про нас забыли? …Нас уже тут не было, когда дом разбили. При нас школу били, поставили танк на улице и в упор расстреливали. А я думаю — «Да Боже ж мой, чтоб у вас глаза-то поослепли!» А как нам люди сказали, что наш дом сгорел, мил-мои, да я пластом легла, мне скорую вызывали. Но я и не надеялась на то, что дом сохранится, — говорит она, а дом смотрит на нее одним-единственным белым углом, на котором красуется зеленый ромб, и сбоку висит кривая ставня. — Надеяться мне было не на что, — продолжает Люба. — Я — мать ополченцев. Все об этом знали. Наш дом тоже расстреливали в упор. Нас сын успел вывезти за двадцать минут до того, как сюда украинский батальон вошел. А мы и еще восемь семей были в списках. Да! У меня хорошие сыновья! Я хорошо их воспитывала. А чегой-то я должна была их отговаривать? Они у меня взрослые и под юбкой никогда не сидели. А вон тот дом пострадал, когда уже ополченцы отсюда уходили, — показывает на соседский. — Там люди ту сторону поддерживали. И чего-то они ополченцам сильно насолили. А так-то эта украинская детвора, солдатики, они нас не трогали. Хотя чувствовали себя хозяевами, пили водку, девочек искали. Ой, мил-мои, проституток везде хватает! А вот батальоны уже были — о-о-о… Когда я приехала — Господи, — Люба сжимает руки на груди, — родной ты мой домик! Ты горел, тебя били, разбивали, а меня рядом не было.
Так и остается неизвестным, взяла ли Алена трубку вечером, но на следующий день в Никишино идет сплошной дождь. Работа приостановлена. Строители прячутся в палатке. Темнеет мокрый песок. Желтый трактор шумит по разбухшей дороге мимо окончательно добитого дождем шинного лебедя. За трактором следует артель женщин с тяпками и граблями. Их одежда покрыта каплями дождя и пылью. Лола смотрит на процессию из своего ларька, зябко запахивает на себе куртку.
— Пошли соцработники, — без сочувствия говорит она.
— Мы — соцработники, — бросает через плечо одна женщина. — Убираем разбитые дома. Нас нанял сельсовет. Начинаем в семь утра, заканчиваем в пять вечера. Зарплата — две сто. Нет, в месяц.
— Девочки, не останавливаемся! — подает голос идущая впереди. — Вон на вас люди смотрят. Сразу доложат, кто работал, а кто нет.
— У нас тут теперь такое! Вы не обижайтесь! Один другого съедает! За что? За дома!
Трактор останавливается возле груды обломков шифера, осколков бетонных плит. Окружив кучу, женщины, наклоняясь, с усилием хватают руками осколки, забрасывают в ковш трактора. Колеблются на ветру помпоны, украшающие их вязаные шапки.
— Путину привет передайте, — выдыхает низкорослая женщина, утерев черной рукой лоб.
— А вы думаете, легко под дождем с семи утра лопатами работать!
— Нас никто не заставляет! Мы сами идем. Жить-то за что-то надо. Кушать детям хочется. Что покупаем? Хлеб покупаем!
— Наших детей в полседьмого отсюда забирают, в школу везут, а полпятого только привозят. Они стоят после уроков, ждут, когда их автобус заберет! Их по очереди возят. А нашу школу восстанавливать не хотят!

Люди с оружием, а не с лопатами здесь тоже не редкость. Война как бы закончилась, но все еще продолжается
— Ну ничего, потерпим!
— А долго будем терпеть?
— Раньше мужья работали в шахтах, а сейчас шахты закрылись. Говорят — временно. Нету сбыта угля. Говорят — ждите, скоро откроем.
— Обещанного три года ждут!
— А вы знаете, какие у нас цены?! Получается, хлеб — наша основная еда. «Красный Крест» иногда привозит наборы. Бывает, российские офицеры останавливаются тут, хлеб нам раздают. Ни садика, ни школы, ни амбулатории! Нас просто взяли и уничтожили! И Украина хороша, и власть наша местная — хорошая!
— Да все хорошие!
— Вон эти волонтеры заехали, молча работают. Но нам помощь «Востока» принимать не велят. А пожалуешься, сразу угрожать начинают. Никому мы не нужны. Бросили все нас. А нам любая помощь — за спасибо! Передайте Ахметову — пусть гуманитарку тем, кто младше шестидесяти пяти, тоже дает!
Заводится трактор, медленно отползая с набитым ковшом от груды. Кажется, женские голоса вылетают прямо из работающего мотора.
— А потому что нельзя людей делить! — раздается мощный старческий голос, перекрикивающий шум.
— Полина Ивановна, не начинайте, — отзывается худая сотрудница сельсовета.
Полина Ивановна смотрит на нее большим нахохлившимся воробьем.
— Ну так все равно делить людей нельзя. В Грозном, когда война была, чеченцы русских стариков спасали. А здесь что?! Ну, хорошо, убрал мне «Восток» мусор. Но еще один дом надо вывезти. Почему вы у меня не убираете?
— Так потому что они вам дом строят!
— Так мой дом разбит, как у всех! И дома у меня пока нет! Почему всем мусор вывозят, а мне не вывозят!
— Да что вы мне претензии предъявляете? — кричит сотрудница. — Вам-то дом строят, а мне — нет!
— Полина Ивановна, что вы к Гале пристали? — галдят женщины. — Она-то при чем? Она такая же бездомная, как вы! И выгребает за всех нас!
— Я к ней лично претензий не имею. Власть зачем делит людей? Предлагают вам помощь, не надо откидывать ее. Не надо!
— А вы знаете, сколько я выгребла сама! Своими руками! — голос Галины срывается на хрип. — Когда муж у меня лежал, кто пришел, помог? Вот скажите, кто мне помог! Поэтому не надо!
— Галя, да и я тачкой сама камни вывозила, пока «Восток» не пришел! Я сама в кухоньке живу, ты знаешь. Но разве ж можно так!
— Не надо! — почти визжит Галя. — Не надо!
— Ты, Галя, успокойся, не кричи,— тихо говорит Полина Ивановна. — Успокойся. И помощи ни от кого не жди. Никто тебе не поможет. Ни ты, ни я никому на свете не нужны.
На своих водяночных ногах Полина Ивановна уходит к своей кухоньке. Там с ней живет та самая соседка, которой волонтеры сейчас строят дом.
Лола выходит из палатки и стоит, заложив руки в карманы. Побег сгоревшего дерева над ее головой выпустил несколько розовых бутонов. Сощурившись, она смотрит на тот конец дороги, где лежит брюхом туча и откуда два года назад зашла украинская военная техника.

За обсуждением насущных дел — соседи говорят о цветах и о хозяйстве, о погибших, о разрушенных домах
Подкрашенный лиловым рот Лолы сжимается в нитку.
— Боюсь, — говорит она. — Боюсь, как бы снова не пришли. Та знаете, мне и все равно, чей снаряд в брата прилетел. Та хоть дэнээра снаряд. Это ж война. Так дэнээры ж нас освобождали… Может, еще солдаты заедут, хлеба дадут.
Жены безработных шахтеров снова проходят мимо ларька. Шумит трактор, работающий теперь с другой
стороны улицы. Дождь прекратился. Тюльпаны воспрянули, лебеди — нет. К ларьку подходит племянник Лолы, темноволосый парень двадцати лет. Выглянуло солнце. Напротив ларька снова завелась стройка.
— Хорошо, что они этой женщине дом строят, — говорит племянник Лолы. — Она полтора года в сарае жила — и в дождь, и в холод. Я не представляю, как она там ютилась… Хоть какая-то справедливость в жизни должна быть! Дом отца тоже разбили, мы переехали в другой — к бабушке. Нет, во время боев нас тут не было. Мы уехали после того, как отец погиб, — он отходит под дерево, говорит тише. — Спрашивайте-спрашивайте, я могу об этом говорить.
Хороший он был человек, душа у него была. Хотя работал в колонии строгого режима. Ничего про эту работу не знаю, он со мной на эту тему не разговаривал. Слава Богу, что я не видел, как его убило. Мы с горем пополам забрали его под обстрелом из морга и похоронили.
— Ой, я вас умоляю, — надвинув платок по брови, Люба упирается грудью в спинку самодельной кровати. — Я вам все сейчас расскажу, что тут в Никишино происходит и почему люди поделились. А происходит то, что люди обозлились до предела. Сейчас борьба идет — кому дома строить будут. Вы же видите, что война уничтожила дома почти все. «Восток» всем дома не построит, а только тем, кому они нужны в первую очередь. Понимаете? Да еще власть своими действиями вносит раздор — выгоняет этот батальон, мешает работать.
Плюется закипающий чайник. Солнце проводит длинный желтый блик по Любиной руке — от локтя до запястья, касается голубых глаз. На Любе леопардовый халат, подколотый булавкой на пузе. Тоже прошедший через десять рук. За спиной — школьная зеленая дверь с большой дыркой. Узкая комната занята двумя кроватями по бокам и телевизором между ними.
— Была у заместителя мэра Шахтерска, — продолжает она, — он мне по строительству ничего не пообещал: «Нет финансов». Люди добрые, почему нас оставили? Здесь была самая линия фронта. Наше село закрыло собой Торез, Шахтерск, Рассыпное. Все приняло на себя. Я лично сама возила свои документы в Донецк. Нам говорили — проект российский, Россия вам будет строить дома. Собрали нас и сказали — пятьдесят два дома построят, выбирайте, кому строить. Хоть жребий бросайте. Но разбито-то сто пятьдесят домов! Так и стравили людей. Ой, милые мои, когда мы отсюда от войны уехали, мы при встрече обнимались, целовались… А сейчас деремся: «Почему тебе дом будут первой строить, а не мне?» А людей можно понять — представьте, каково это, без ничего остаться. Ну! За что?.. Хотя все мы грешные. Хорошо, знаете, что я вам сейчас скажу? А как Господь сказал: «Накажу того, кого люблю, от остальных отвернусь». Наверное, нас Бог любит. Будем терпеть. Я в Бога верую, но в церковь не хожу. Даже когда я была комсомолкой, все равно умом своим доходила до мысли — ну хорошо, откудова-то вот это все взялось? Вот это ф-фсе. Фсе! Бог, значит, есть. А это не Бог наши дома разбил и деревья сломал. Это — демоны, — Люба встает, снимает булавку с пуза. За ней — косынку, освобождая короткие седые волосы, полностью меняющие ее лицо. — Это злые люди, нехорошие. Может, и мы перед Богом виноваты. А кто не виноват?.. Ниче, Бог даст, проживем. Родители меня покрестили, так и чего я буду фокусничать? Да надоел ты мне! — выставляет белого кота за порог. — Все углы пообоссал… Старший мой ушел в ополчение первым. А младший отучился в Ростове на комбайнах, ему предложили ехать в Магадан. Он поехал, а когда тут началось, вернулся. Тут уже блокпосты пошли. И мой старший на блокпост пошел. Ничего он мне не сказал! Он у меня такой, понимаешь, — трясет кулаком, — ему адреналин надо гонять. Младший — уравновешенный, спокойный. А мне уже люди сказали, что старший на блокпосту стоит. Я ему — «Игорь… сыночек мой…» А он: «Мам, я не ребенок. Я по-другому не буду. Я никуда тикать не буду. А буду гнать их до самого Львова. И, может быть, развалинами Львова удовлетворюсь». Ну что я могла сказать, мои дорогие? И младший тоже пошел: «А я, что сидеть буду?». Старший уже до капитана дослужился. Но я его предупредила — «Возьмешь Олега, убью!» А он у меня битый, в свое время хорошо получал… Вот младший — не битый, его не за что бить. А того паразита лупила. Вот закрою его: «Сделай то, то и это». Не успела выйти, слышу — он мне уже окно выносит. Вылез и убежал! Ну надо его было чем-то учить! А сейчас говорю: «Мой сыночек родненький, какая я дурная была, что тебя била. Все равно это ничего не дало». А Олег видел, как я того лупила, боялся и вел себя хорошо. Но пришел и говорит: «Мам, Игорь меня не берет — мол, ты его убьешь. Мам, я пойду тогда к другому, но дома сидеть не буду». «Ладно, — говорю. — Хорошо… Хорошо подумали?! Хорошо подумали оба?! Ну, идите… С Богом». А ложусь спать и прошу — «Господи, Боже милостивый, спаси и сохрани моих сынов! Они пошли на правое дело».
Тут на центральной улице однажды была перестрелка. У нас было слышно, как пули свистят. Машина там горела. А там мой Игорь был. Я не знала, что он там. Если б знала… А что, я к нему не бегала? И когда драки раньше были, бегала! Однажды выскочила в одной ночной рубашке, схватила кочергу и помчалась. Как прибежала, схватила его — и только дома разжала руки свои…
В прорези двери появляется бледное заплаканное лицо. В угольник входит тихая соседка. Садится на стул в углу.
— Люба, — обращается к ней Люба. — А сколько у нас человек погибло? Раз, два, три, четыре, пять, — Люба загибает пальцы. — Шухрат первым погиб. Потом Ваня Иншин. Стаса застрелили, да? Как, за что?! Просто! Без всякого смысла. Ваню. Они стали выезжать, а в конце улицы эти стоят, в смысле украинцы. В шесть вечера комендантский час начинался. Надя подошла к ним, говорит: «Ребят, мы немножко задержались. Можно выехать?» — «Выезжайте». Они выехали со двора, она побежала закрывать ворота. А тот же снизу шел. Выстрелил в Ваню в упор, сзади в затылок, прям оттуда через глаз пуля вышла. Та подбежала, а Ваня уже готов!.. Пока ворота закрывала, мужа лишилась. А потом тот к ней пришел: «Ой, шо ж я наробив. Я людину вбив. Пробачьте мене будь ласка»… Значит, Шухрат, Лида Петровна, Володька Козел. Да нет, это его кличка, фамилия Балахник. И кто еще, Люба?
— Да все, — легко отвечает Люба.
— Муха залетела. Кыш-кыш, — Люба гонит жирную муху в дверь. — Люба опять плакала. Ой, пессимистка.
— Потому что выхода нет, — весело отвечает соседка.
— Люба, а ты шла — не видела на дороге лепестки белых тюльпанов?.. Это, наверное, Виолетка пообрывала опять и разбросала. Что за ребенок такой! Цветут, так пусть цветут.

Сельский ларек, центр торговли и общественной жизни
* * *
Под ногу маленькой тихой Любы попадает лепесток белого тюльпана. Другой гонит ей навстречу ветер. Через несколько метров на земле лежит сникший, оторванный почти у самого основания сизо-белый бутон. За Любой-соседкой бежит Цыган.
— Девочка у нас тут живет такая, любит подойти к чужим цветам, оборвать и бросить. В пятом классе уже. Бестолковая. Боже мой, Боже мой, — прячет слезы, которые, кажется, не просыхают на ее теряющих цвет глазах. — Как мне страшно! Я б собралась и побежала, но некуда. Пенсии не получаю, работать негде.
На пути встает разбитая школа. Здесь ветер гуляет, прыгая сверху вниз по коридору, отыскивая дырки, внедряясь в них, словно змей. На полу шуршат классные журналы, разлинованные тетради, экзаменационные билеты. Они мокрые от дождя. «Характеристика на ученика четвертого класса Перхонина Олега Александровича, — трепещет на сквозняке листок. — Вiн хлопчик неуважкий…»
— А чего б мне не помнить букет, с которым я в первый класс в эту школу пришла? Помню. Это были гладиолусы.
Идя по зеленой тропинке к своему двору, она говорит, что каждый день плачет. Что всю жизнь копила и строила, а перед войной сын ей сделал ремонт и купил новую мебель, и Люба подумала, что встретит старость, как королева. А мужья женщин Никишино всю жизнь горбатились в шахтенных забоях и в копанках, чтобы построить своим семьям дома. «Обидели», — говорит Люба. Своими словами она, сама того не ведая, отвечает на вопрос, почему простые жители Донбасса не бросают свои дома и не бегут от войны. Потому что конечная их цель — после тяжелой трудовой жизни пожить королем. Или королевой. И позволить своим детям продвинуться на сантиметр к лучшей жизни по этой кривой унаследованной бедности. Когда хотя бы один из сыновей сможет пойти учиться, а не наследовать место отца в шахте или в колонии строгого режима.
Люба-соседка открывает дырявые, покусанные ржавчиной зеленые ворота, на которых белой краской написано: «Мира 23». Входит в чистый ухоженный двор. Дома нигде нет.
— Понимаете, его вообще нет, — говорит она. — Дома нет. Вы понимаете? Вообще дома нет.