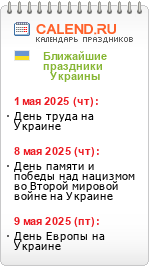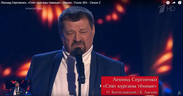Леся и Всеволод Орловы о скульпторе дяде Лёне
Мы с братом вместе написали о человеке, которого знали и знаем очень близко, которого помним, благодарим, уважаем и любим. Нам очень важно было это сделать. Позавчера я не могла опубликовать, публикую сегодня.
Всеволод Орлов:
С дяди Лёни можно было лепить бюст римского патриция. Крупная голова, короткая челка белых, как лунь, волос, значительные мощные черты лица. И весь он был мощный, с какой-то идеально мужской фигурой, на такие люди годы тратят в спортзалах. Но ему баловством было заниматься некогда – он всегда работал.
Работал дядя Лёня скульптором-монументалистом. А это специфическая очень работа. Чтобы преуспеть в ней, нужно регулярно получать заказы, а чтобы получать заказы, нужно сначала быть грамотным автоимпресарио, пиарщиком, джиарщиком, толкачом, царедворцем и еще много кем, а уж потом скульптором. Но дядя Лёня был скульптором не потом, а сначала. Каждый день, каждую минуту своей жизни он либо искал фактуру, либо воплощал ее.
Воплощал что угодно из чего угодно. В ванной своей маленькой двушки на пересечении донецких проспекта Гринкевича и улицы Щорса он сделал панно: два лебедя и гусенок-лебеденок. Обычный советский кафель, белый и синий, плюс три маленьких кусочка какой-то красной керамики – для лебединых клювов. Пошлость какая – гуси-лебеди, налетай-торопись-покупай-живопись-гобелен-пастушка, да еще и из стандартной плитки 70х70 мм, какой сортир общественный мог быть выложен. Так бы и было в любых руках, кроме дядилёниных. А у него из всего этого каким-то образом получился гимн семье, простые и чистые символы мужественности отца, нежной женственности матери и наивной открытости входящего в жизнь ребенка.
Чудо его рук, огромных, сильных, со спокойной уверенностью размеренно поднимающих и опускающих тяжеленные киянки, дробящие гранит, заключалось в том, что они легко умели малое. Покрутил кусочек проволоки, подобранной на улице, - полетела, опираясь на воздушный столб, стремительная ракета, помял комочек детского пластилина – изогнулась волной над нивой трудолюбивая жница, обернул несколько латунных стружек вокруг деревянного чурбака – иронически прищурился казак Мамай, сложил вместе несколько галек-щебёнок - встали плечом к плечу против падающей породы в безнадежном героизме шахтеры.
Но чтобы эти руки умели малое, его глаза, мозг, душа должны были уметь и умели большое. Он думал проспектами, площадями, перспективами, залами и анфиладами, он выстраивал их, вводя в пространство свои образы и создавая это пространство своими акцентами.
Дончане знают, в основном, его простое и лаконичное решение памятника жертвам фашизма на Ленинском проспекте. Холм, лестница, слегка сужающаяся вверх, три стелы, возносящие ввысь железный венок. Там ничего нет, каждый третий мог бы сказать «что тут такого», а то и «я тож так могу». Но не скажет, потому что сделано так, что с любого ракурса ты видишь дорогу в небеса, скорбную и великую, прихватывающую за сердечную мышцу так, что, проезжая мимо, иной раз хочется поберечь себя – отвернуться, но нельзя.
Это мощнейшей христианской наполненности монумент. Без единого намека на христианские символы, без малейшей возможности что-нибудь нахудсоветить атеистическому худсовету, и без единого шанса при этом не почувствовать, о чем это, даже если умом не понимаешь.
Вот люди, облеченные правом принятия решений, может, и чувствовали, а умом не понимали вовсе. Не давали того, чего он стоил и заслуживал, не брали то, во что он вложил годы и серьезные деньги, зарубали по дороге уже подписанное и разрешенное. Никогда ни слова сетований на судьбу, никогда ни на секунду опускания рук и остановки в работе.
Он был гораздо большего и сильного масштаба художник, чем наш большой, но все же провинциальный город. Многоплановый, многостилевой подход, в диапазоне от классического роденовского реализма до сидуровского авангарда. Колоссальное чувство материалов, фактур, их неожиданных, открывающих новое сочетаний. Великолепное пространственное пластическое мышление, способность организовать мир вокруг формы.
Это даже в самых простых, казалось бы, проектах было видно. Глыбистая группа полярных медведей в уникальном ресторане-мороженое «Арктика», интерьер которого делал дядя Лёня, задавала и атмосферу, и тон места с первого шага в фойе. Металлические авангардные рельефы странных рыцарей и горожан на стенах обычного обувного магазина делали его посещение чем-то вроде экскурсии в пражский замок. Декоративный горельефный пояс на фронтоне центральной гостиницы «Донбасс» заставлял задрать голову на перекрестье центральных улиц и неожиданно делал город выше.
А то, что у него осталось в эскизах, в набросках, в моделях, в маленьких формах глины, гипса и дерева…
А что осталось? А, в общем, практически ничего. Несколько фотографий. Горельеф сняли при перестройке отеля в стандартное помпезное гостиничное здание, обещали восстановить, но, конечно, не стали. Юза отняли. Мишек из «Арктики» выкинули куда-то, да и нет той «Арктики». Даже скромную доску Василя Стуса с университета ободрали «патриоты донбасса», не знающие, что убивают работу человека, создавшего герб Донецка с поднимающей молот рукой, под которым мы все выросли. Кого перепатриотить хотели? Да что там, даже бронзовый барельеф моего отца со скромного куска гранита в дебрях Мушкетовского кладбища – и тот ушел от дядилёниных гениальных рук на металлолом через чьи-то жадные и глупые ручонки.
Дядя Лёня при всей своей физической и творческой мощи был человек чрезвычайно тихий, с мягкими интонациями, с тонким, но как бы в усы, которых никогда не носил, юмором, с ни разу не исказившимися злобой или раздражением чертами сильного лица, с редкой готовностью отступить, уступить, даже стушеваться и ни секунды не выглядеть при этом размазней. Эта мягкость была от силы, от очень спокойной уверенности в себе и готовности принять мир любым, но оставить за собой право на любую реакцию на этот самый мир.
Когда запившие рабочие не выходили на площадку, он один делал работу за бригаду. Когда товарищ, которого он считал в худшем, чем своё, положении, претендовал на тот же заказ, он снимал свою работу с конкурса. Когда надо было вычеркнуть из соавторов опального коллегу, он говорил тихое «нет», которое было из тех же суровых и несокрушимых материалов, с которыми он привык работать. Когда надо было помогать семьям друзей, он вообще ничего не говорил – просто приходил и делал, не разово, длинно и упорно, как любую свою работу.
С него надо было бы лепить римского патриция. Некому было. Он ответил не принявшему его миру, как мог и считал нужным. Умирая от тяжелого и чрезвычайно мучительного недуга, он однажды собрался финальным усилием, доехал до мастерской и разбил все, что было там заготовлено, наработано, прожито. Я с легкостью представляю себе его с киянкой в этот момент: мягкое лицо, тихое дыхание и мощные, последние и окончательные движения тяжелых рук. Это была патрицианская смерть.
Дядю Лёню звали Леонид Артёмович Бринь. На днях ему могло, просто обязано было исполниться 90. Он должен, обязан был иметь за спиной всесоюзную, а то и мировую славу, тысячи реализованных проектов и толпу учеников и учеников учеников, которые сегодня шли бы к нему с поздравлениями.
Получилось иначе. Осталось несколько человек, которые его любили и любят, несколько разрозненных памятников, чье авторство большинству неизвестно, и герб советского Донецка, который вроде бы уже не в ходу. Я не знаю, много это или мало, обиду надо чувствовать за него или смирение, оценивать результат или насыщенность переживаниями, восприятием красоты, любовью, самореализацией его сложившейся жизни. У меня нет никакой мерки, кроме любви и памяти. По этим меркам, это была великая судьба.
Леся Орлова:
Я хочу о любви. Дяде Лене было 32 года, когда он увидел в трамвае юную прелестную девушку.
Шестнадцатилетнюю Таисию, Таечку. Их разница в возрасте составляла 16 лет. Он увидел ее в трамвае, влюбился с первого взгляда – и проехал свою остановку, и сошел следом за ней, на всю жизнь. Ждал ее пять лет – и они наконец поженились. Ее семья поначалу была категорически против этого брака, но он состоялся – и стал одним из самых счастливых браков, какие я только видела в жизни. И тети Таечкина семья, конечно, признала это – и приняла дядю Леню. Моя мама всегда вспоминала, как он приезжал за тетей Таей в музыкальную школу, где та преподавала игру на фортепиано, на мотоцикле, в белом свитере с высоким воротом, и нежная эта девочка с длинными тяжелыми черными волосами садилась сзади и обхватывала руками его мощный торс… или как, встречая год Петуха, они принимали гостей, смешно повязав головы красными косынками… или как катались с детьми на санках… или как дядя Леня фотографировал (эти бесхитростные пленки, оцифрованные теперь его сыновьями, хранят обычную нашу жизнь, наших старших, наши праздники и времена, "когда еще все наши были живы").
Денег никогда не было, легко никогда не было. А счастливо и весело – было. Они прожили долгую, трудную и очень светлую жизнь в любви и верности, растили двоих сыновей и принимали гостей в крошечной своей квартирке, маяке-огоньке, самом уютном доме на свете. Учительница музыки и скульптор, выстроившие свой мир как в самых прекрасных, теплых и щемящих рассказах О.Генри. В их доме было много книг и много-много альбомов по искусству, которые дядя Леня всю жизнь собирал. Выходец из очень простой семьи, переживший войну и нищету, кормивший большую семью, отсылая домой всю стипендию, много и тяжело работавший, он был одним из самых интеллигентных, тонких, цельных и стремившихся к знанию людей, которых я знаю. А мужская родственная поддержка, которую он оказывал нашей семье после смерти папы, по сей день переполняет мое сердце благодарностью.
Тетя Таечка была его всем - ангелом-хранителем, возлюбленной, самым близким другом и родным, все понимавшим и во всем поддерживавшим человеком. Ее черты – во всех женских образах, которые он создал. Такая хрупкая, такая нежная и певучая – и такая сильная-сильная… Таечка, моя крестная мама… В самом конце, когда дядя Леня уходил и совсем не мог есть, она обращалась именно к его душе художника, выкладывая разноцветные натюрморты, целые картины из еды на синей тарелке, в надежде, что гармония красок пробудит в нем хотя бы секундный аппетит, это так и стоит у меня перед глазами. А он уходил, собрав все силы, чтобы причинять как можно меньше хлопот, как можно меньше обременять собой… не помню подобного мужества и львиной силы больше. Мне до сих пор не очень верится, что дяди Лени нет.
Он правда был очень красивый. Скульптурно. О таком лице и теле хочется сказать именно – «лепка», «вылеплено». Мощно, значительно, прекрасно. Профиль с челкой – как с античной монеты («медальный»). Действительно, что-то от древнего римлянина. От воина. И, как истинный воин, он был немногословен, сдержан в проявлении эмоций и скуп в движениях, полных скрытой мощи, и мог на незнакомцев производить впечатление суровости – если не знать, какой невероятной деликатностью он наделен, каким даром тонкого чувствования, какой сосредоточенной внимательностью к нюансам, каким теплым, все подмечающим юмором… если не знать, как, обычно молчаливый, он мог иногда рассказывать поразительные истории о детстве, юности, работе за чаем с травами и вкуснейшим домашним вареньем на крохотной кухоньке… и если не знать, какая чудесная, детски-наивная застенчивая улыбка освещала его черты в добрую минуту среди своих. Как мы любили его. Как мы любим его.
8 января ему было бы 90. Мы не стали привешивать страницу из Википедии о нем: фотографии его работ там неудачны предельно – и в сотой доле не передают истинного вида, образа и впечатления, простят, обманывают, "смазывают"… Эту страницу сделали близкие, хотя дядя Леня достоин монографий, профессиональных разборов и статей в энциклопедиях. Впрочем, к этим вещам, к бряцанию, наградам и почестям он всю жизнь был совершенно равнодушен. И получил от жизни ровно то, что ценил и чего хотел: семью, друзей и творчество. Судьбу.
«И можно себе представить смиренный лик, и можно себе представить огромный рост, но он уходит, так же прост и велик, как был за миг перед этим велик и прост». (Левитанский)