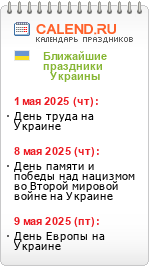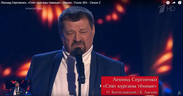Память
Несколько слов о ностальгическом возвращении в Донецк
|Знаете, друзья, последние три дня, точнее, три вечера - это какое-то состояние неожиданного счастливого чуда возвращения.
В личку стучатся люди - соседи по двору, соседи по дому и те, кто знал описанных мною людей. И мы с ними до поздней ночи вместе уплываем "в туда" и "в тогда", "когда еще все наши были живы". Перебиваем друг друга, рвем фразы - "а помните", " а помните", - и пишем с опечатками от спешки, потому что память выходит из берегов, затапливает сердце, ум и все вокруг, и воспоминания - ожившие звуки, запахи, картинки - кажутся куда ярче всего, что вокруг сейчас. И этот эффект еще - знал, забыл, не вспоминал, а теперь вспомнил!
Запах двора и донецких улиц, запах только что вымытых плиток, стен и перил подъезда, когда входишь, и запах жаркого лета, когда выходишь из сумрака и прохлады. Гладкость лестничных перил - и шершавость перил балконных. Мелодии звонков в квартиры. Дорожка капель от мчавшегося гулять гиганта-Доната. Нацарапанный кем-то на побелке лестничного пролета роскошный волк из "Ну, погоди!" - его не забеливали, очень уж был красивый. Зеленые стены до половины, аккуратнейше, под линейку, отбитые более темным "кантиком" (такого я больше никогда не видела). Белье на балконах. Огромная яблоня в углу двора, с которой мы с криками сбивали яблоки мячом. Пятна на пальцах от шелковиц на бульваре у памятника Пушкину, под кроны которых мы забирались на целые часы.
Памятник Артема в Святогорске
В сентябре 1927 года, когда над излучиной Северского Донца в Святых Горах выросла 28-метровая монументальная статуя товарища Артема. За три четверти века мы привыкли к тому, что в числе достопримечательностей региона в первых строчках числится святогорский Артем, и почти никогда не задумываемся, что выдающийся киевский скульптор Иван Кавалеридзе подарил нам настоящее художественное чудо.

"Кавалеридзе ведь создал два памятника Артему, — рассказал старший научный сотрудник Святогорского историко-архитектурного заповедника, заслуженный работник культуры Украины, непревзойденный знаток Святогорья Владимир Дедов, — первый поставили еще в 1924 году в Бахмуте, вскоре ставшим Артемовском. Тот монумент тоже был огромным — 15-метровая фигура встала на15-метровый же постамент. Материал для памятника Кавалеридзе и его постоянные, еще с дореволюционных пор, соавторы, мастера-бетонщики династии Орленко, выбрали тот же, что и три года спустя в Святых Горах — бетон и железо. К сожалению, во время войны немцы уничтожили уникальный монумент".
Леся Орлова о Донецке, который она потеряла
|Я часто сравниваю подъезд своего детства с Ноевым ковчегом: обитатели двенадцати квартир сейчас кажутся реликтовыми библейскими животными вроде единорога или левиафана. Увы, наш Ноев ковчег постигла судьба «Титаника»: ветхозаветным его пассажирам не было места в безжалостном будущем. С тонущего кораблика спаслись в сущности только я и дядя Саша. Я — потому что попросту выросла и естественно вписалась в новую жизнь. А дядя Саша — потому что изначально опередил своё время, без оглядки спрыгнул с борта и радостно пустился вплавь по волнам.
Сейчас я чувствую себя кем-то вроде повзрослевшего Костика из «Покровских ворот», с тоской глядящего, как дом его юности разбивает гиря строительного крана. От мощных ударов сотрясаются стены, в разрушенной комнате игла старенького патефона падает на пластинку с отбитым краем — и бойкий фокстротик запускает кино.
Нет-нет, дом моего детства стоит, где стоял, война не добралась до центра Донецка. И всё же его больше нет, и довольно давно. Те, кто жили там после нас, знатно поработали перфораторами: разбирали стены, что-то там городили из гипсокартона, упаковывали решётчатые фигурные балконы в белый пластик, сбивали лепнину, опуская потолки… Игла рижской «Ригонды» падает на пластинку фирмы «Мелодия», наводится, как в детской игре, фокус: конец семидесятых и восьмидесятые, планета Земля, государство СССР, город Донецк, улица Артёма, дом 80-а, подъезд №6, стоп. Я, маленькая, бегу с пятого этажа вниз по ступенькам, почти не касаясь перил и задерживаясь на каждой площадке, чтобы поздороваться с обитателями трёх выходящих на неё квартир.
Старая балерина и православный священник, начальница судмедэкспертизы и таинственный алкоголик, директор кукольного театра и горный инженер, продавщица овощного в бриллиантах и спившаяся пианистка, бывшая лагерная надзирательница и классная дама — ровесница века, журналист главной городской газеты и вузовский преподаватель. За каждым — уникальная история, все вместе — срез времени и места, часть истории города, население которого — удивлены? — никогда не ограничивалось «крепкой шахтёрской косточкой». Все они жили в нашем подъезде с «сотворения мира» — с заселения старого «сталинского» дома. Единственным пришлым был дядя Саша.
«Я собираюсь разбогатеть, но не сейчас»
(Д'Артаньян)
Подобно принесённой ветром Мэри Поппинс дядя Саша появился как-то в одночасье и ниоткуда. Он был одет в шикарный кожаный плащ и держал за поводок гигантского чёрного дога Доната. Дядя Саша переехал к жене — тёте Тамаре — и падчерице Иришке. Тогда, на рубеже восьмидесятых, он был молодым, худым, гибким, усатым и джинсовым, глаза его всегда смеялись, а шапка мелко вьющихся чёрных волос с ранней проседью в точности повторяла знаменитую «афру» Анджелы Дэвис. Лет в пять, посмотрев «Трёх мушкетеров», я сразу поняла, что дядя Саша — Д'Артаньян. Обаятельный, начитанный и ироничный, он стал любимцем всего подъезда. В детях души не чаял, и я обожала, скажем, смотреть ноябрьский парад, сидя у него на коленях, или вместе выгуливать огромного, хрипло-басовитого Доната.
Дядя Саша был сыном продавщицы пива, о чём сообщал без малейшего смущения, тем более что мать постаралась дать ему образование. Молодой инженер-«винтик» зарабатывал негусто, но не переживал: у него ведь была «умеющая вертеться» тетя Тамара. В легендарном «сто тридцатом» книжном она дослужилась до заведующей секцией букинистики — это было даже круче отдела подписных изданий. Успешно снимая сливки со своего товара, она заодно пополняла семейную библиотеку. У них были тысячи книг, сплошной дефицит, но никто кроме дяди Саши их по достоинству оценить не мог. Как ни посмотри, союз этот был странноватым. Стильный дядя Саша всё читал и смотрел, обменивался с моими родителями толстыми журналами, обожал «Что? Где? Когда?», а тётя Тамара, старше мужа лет на десять, была уютная высокая и полная тётка с «химией», таскала продуктовые сумки в обеих руках, готовила, вязала, гонялась за модной мебелью и всё время меняла обои на более престижные: то моющиеся, то с узором в виде кирпичной кладки, то в виниловый рельефный квадратик. Её дочка Иришка была из тех «старших девочек», которых обожают все дети во дворе. Она довольно рано вышла замуж, родила дочку и быстро развелась, так что дядя Саша заменил отца ещё и маленькой Альке. И все они, вместе и порознь, часто забегали к тёте Элле, у которой я вообще дневала и ночевала.
Воспоминания про 12 марта 1989 года
12 марта 1989 года тоже пришлось на воскресенье. Готовиться я начал с пятницы: вольнонаемные девушки, Валя, Марина и Марина, принесли из города водки, сыр, майонез, колбасу, конфеты, что-то еще, уже не помню, – чего невозможно было купить в нашем чепке. Валя была линотипистка, мы у нее таскали клинья – самодельный кипятильник из линотипных клиньев кипятил трехлитровую банку за пару минут. Марина закончила филологический и была влюблена в творчество Максима Горького. Другая Марина была разведенка, флиртовала с офицерами и очень хихикала, когда солдаты трогали ее за коленки. До приказа мне оставалось недели две (он выходил обычно в конце марта), днями я обычно валялся за плоскопечатным станком и читал что-нибудь свеженькое, «Новый мир», «Юность» или «Детей Арбата».
Подростковое про жизнь на Петровке
|Психушка. Через дорогу раскинулся поселок Темные Лещи. Вернее, называется то он Брикетной, но уличное освещение здесь имело обыкновение не работать. Потому и Темные. А Лещи – просто забавное словечко. Для колориту и окраинной самобытности.
Дальше начинается изрядно потрепанный войной частный сектор, разбавленный старыми двухэтажками. Идти туда, по эдакой темноте, не хочется, да и незачем. Все это я уже видел не один десяток раз. Удручающая картина. А ведь замечательные когда-то были поселки. Скромные, но аккуратные. Сижу на остановке, курю, подставляя физиономию сумасшедшему мартовскому ветру. Мимо идет компания. Просят закурить, но я их почти не слышу. Поплыл.
«Пей!», - Вадик протягивает мне белую чашку с какими-то беспонтовыми цветочками и крупной трещиной. Внутри плещется алая жидкость.
«Кровища?», - спрашиваю.
«Сам ты…компот это! Ты ж хотел пить!»
Делаю богатырский глоток и пищевод выгибается в дугу. Этот негодяй хохочет. Теперь я обязательно пошутил бы о том, что грязный казак пытался меня отравить, но в ту пору фильма еще не видел.
«Что…это?», - выдохнул я.
«Компот. С самогоном. Я у деда тиснул», - гордо сообщил Вадик.
Гастроном особого значения
Сначала прописная истина. В Донецке есть множество особенных мест. Не так чтобы культовых, но знаковых, вне всякого сомнения. Они вызывают приятное и умилительное настроение у нескольких поколений дончан. Ну вы понимаете, о чем я… Так почему бы нам вместе ни вспомнить точки?

Ветчина 1937 года
Тему стартового материала цикла подсказало время. В феврале исполняется 80 лет с момента ввода в эксплуатацию в городе Сталино легендарного гастронома «Москва». По счастливому капризу истории его недавно реанимировали, пусть и не в полном великолепии сталинского реализма, но, во всяком случае, большая часть исторической «Москвы» снова кормит людей.
Без десяти сто
Последние дни января принято считать временем основания известного многим Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Созданная в далеком 1927 году структура, которая все годы своего существования объединяла активную и деятельную молодежь, ныне празднует свое 90-летие. Дата, согласитесь, почтенная, солидная.
Школа мужества
Старшее поколение в большинстве своем знакомо с ДОСААФ лично, для многих из них он был школой мужества, взросления, если угодно. А вот более молодому читателю все-таки следует объяснить, что это такое, ведь за 25 лет существования «нэзалэжной» об этом обществе если и вспоминали, то очень вскользь, поверхностно. Забегая вперед, скажу, что с 1991 по 2014 год ДОСААФ все же проводил подготовку кадров и активно работал, но школьникам и студентам о нем рассказывали не так, как в былые времена.
И все-таки, чем же занимался ДОСААФ, для каких целей, собственно, создавался? Изначально организация обучала желающих в различных направлениях спортивной деятельности, а также проводила патриотическую работу. После обучения добровольцы выходили хорошо подготовленными в радиоспорте, авиационном и парашютном видах спорта. Выпускники были отличными стрелками из огнестрельного и пневматического оружия, они хорошо знали, что такое телеграф и как управлять автомобилями различных категорий. В общем, каждый выбирал занятие себе по душе, а затем углубленно изучал все его тонкости и аспекты.
ДОСААФ не только помогал молодежи с пользой проводить досуг и развиваться, но и полностью оправдывал свое название подготовкой квалифицированных кадров для службы в армии и для народного хозяйства.
Дом с обезьянкой и армия клонов
Нам мыслилось, что он совершенно уникален, комфортен, огромен и даже пафосен. А оказалось, это типовой проект. И кинотеатров, аналогичных нашему «Донецку», чьи останки сейчас слепо пялятся на проспект Ильича бойницами былых витражей, по СССР – тьма тьмущая.

Типично для империи
Союз был размашист. Без типовых решений ему было не обойтись. Но к тиражированию допускались реально удачные разработки. Да и просторов империи хватало, чтобы не саднило досадное ощущение однообразия. Уже в зрелом возрасте я был удивлен, обнаружив в далеком Сыктывкаре близнеца «Донецка» под вывеской «Парма».
А были еще «Космос» в Калуге, «Волга» в Ярославле, «Буревестник» в Геленджике, «Современник» в Иваново, «Юбилейный» в Караганде, «Удокан» в Чите и так далее. Десятки объектов по бескрайней стране! Мне удалось насчитать 33, но уверенности, что тем всё и ограничивается, нет.
Только в бывшей Донецкой области, кроме «Донецка», было еще три его широкоформатных клона на 800 мест – в Макеевке, Мариуполе, Краматорске. Времена расцвета этого экранного великолепия пришлись на 1960–1970-е годы, частично на 1980-е. А потом какие-то кинотеатры перепрофилировали в ночные клубы, какие-то погибли под ударами безжалостных законов дикого рынка.
Про истинную Пиковую даму Донецкой оперы
|Недавно один френд написал мне: «куда всё проваливается? неужели неизбежна эта волна, смывающая всё - и вещи, и людей, и память, и ощущения?...ничего ведь не остаётся». Я тоже часто думаю об этом. И вот, мне пришло вдруг в голову, что на целом свете сейчас, похоже, нет совсем-совсем никого, кто хоть иногда вспоминает Нину Михайловну. Никого, кроме меня и брата. Нину Михайловну, когда-то легендарную, блиставшую, царившую, порхавшую, и к ногам которой – все и всё. Тут будет много букв - но мне кажется, что истаявшая драматическая жизнь их вполне заслуживает. Ну, хотя бы таких - уж как умею.
Только что я с горечью обнаружила, что сегодня на сайте Донецкого театра оперы и балета о ней – всего одно упоминание: что она танцевала партию Лауренсии в первом балетном спектакле в истории нашего театра 7 августа 1941 года. А кроме этого, в целом огромном «гугле» – лишь еще одна короткая фраза: преподавала, мол, после войны. Больше ничего. А между тем, много лет назад в доме моего детства, по улице Артема, 80а, все знали, что в нашем шестом подъезде в квартире №60 живет бывшая прима-балерина нашего театра оперы и балета, заслуженная артистка Нина Михайловна Гончарова. Все знали, все испытывали положенный пиетет – и все держались от нее подальше. Потому что она была – истинная старая Пиковая дама. Зловещая, похожая на «характерный» набросок тушью по акварели, и словно окруженная темной дымкой.
Нина Михайловна была очень сухонькой маленькой старушкой с безупречно прямой спиной. Поредевшие волосы в завитом удлиненном «каре» красила в темно-коричневый цвет с бордовым отливом – думаю, там была какая-то ядреная смесь хны с басмой, при ее-то пенсии и ассортименте магазинов. Еще она красила тоненькие брови и губы. Глаза у нее были очень темными, лицо – очень бледным. И очень, очень злым. Губы – в ниточку. Взгляд – сверлящий.
Очень ярко помню ее в длинном трапециевидном плаще-«пыльнике», пресловутом «летнем пальто» родом из уютных пятидесятых. Шелковая косынка на шее. И непременно берет на голове, заломленный на бок, как у пажей, огромный, бархатный, темно-фиолетовый. Очень тяжелые крепкие старомодные духи – что-то, вроде советского «Черного домино». Мрачноватая фигура, которую не трогательной, не анекдотичной, не карикатурной, а просто-таки жутковатой делал неизменный верный спутник – крохотный пинчер Тоба - «Тобик», «Тобочка». Самая злобная собачонка, какую я встречала в жизни. Лупоглазое, всегда мелко трясущееся черное существо на тоненьких подламывающихся лапках. Видимо, в весьма уже почтенном возрасте. Обманчиво умилительное (так-то с виду этот истерик был похож на трогательного нано-олененка) – и готовое откусить тебе руку по локоть или по что там дотянется, только потеряй бдительность. «Тобик» не молчал вообще никогда. Тонкий визгливый скандальный лай – по любому поводу. Из-за двери, если кто-то проходил по площадке (а как не пройти, если Нина Михайловна жила на самом нижнем этаже?). При встрече с любым прохожим. Да просто так – от полноты паскудных чувств. «Дружочек Тобочка», кажется, вообще перманентно жил за дверью на коврике, дрожа в истероидной надежде на появление объекта для скандала. Чтоб облаять во всех смыслах слова.
Alien in Donetsk
|Мне, наверное, года четыре. Мы с мамой едем в троллейбусе, на остановке входит компания чернокожих студентов. Я, кажется, впервые с этим сталкиваюсь – и потрясенно восклицаю: «Мама, а у этих мужчин черная кожа!» (мама крайне жестко выкорчевывала принесенных их садика «дядь», «теть» и прочих «ляль» и «вавок» - у нас было принято с самого начала говорить «мужчины», «женщины», «девочки», «куклы» и «ранки»). Мама наклоняется ко мне и тихо говорит: «Это африканцы. Нужно говорить «африканцы».
Африканцев в Донецке было гигантское множество. Они учились в четырех главных вузах – ДПИ (ныне ДонГТУ, который одновременно был главным «политехом» страны), университете, торговом и медицинском. Человеком с черной кожей никого в Донецке было не удивить – как, впрочем, и иными представителями других национальностей и рас: у нас учились китайцы, вьетнамцы, индусы, арабы всех мастей, монголы, египтяне, немцы, австралийцы. А моя мама много лет преподавала в ДПИ русский как иностранный – как раз для этих вот студентов, приезжавших в Советский Союз учиться и не знавших на русском и двух слов. Идя по улице, она то и дело отвечала на их приветствия. А в доме у нас, соответственно, регулярно чаевничали ее студенты, и некоторые из них оставались нашими друзьями на долгие годы, писали маме письма, а «для Леси» вкладывали в конверты яркие открытки и наклейки, которые для меня, советской младшеклассницы начала восьмидесятых были неописуемой экзотикой, хранились в особой коробке и никогда никуда не наклеивались.